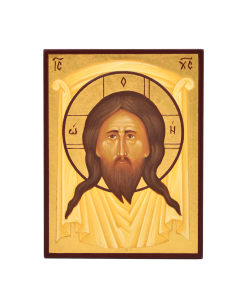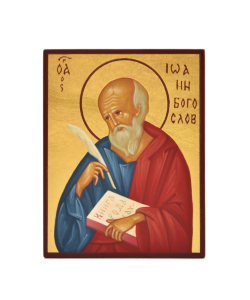Святая равноапостольная Ольга, супруга великого князя Киевского Игоря, вошла в историю как лучезарная заря христианства на Руси. Время их правления, наступившее после кончины князя Олега († 912), стало переломной эпохой в борьбе между старой языческой верой и новой, животворной силой Христовой истины.
К концу княжения Игоря († 945)
Церковь Христова уже обрела весомое духовное и государственное значение. Яркое
свидетельство тому — сохранившийся текст договора с Византией 944 года,
включённый летописцем в «Повесть временных лет». Этот документ — не просто
сухой перечень условий, а живое отражение дуализма русской души, разрывающейся
между Перуном и Христом.
Две Руси: крещёная и
некрещёная
Мирный договор с Константинополем
должен был быть скреплён клятвой обеих религиозных общин Киева. «Русь крещёная»
присягала в соборном храме святого пророка Илии, где мерцали лампады перед
ликами святых, а воздух дрожал от молитвенных песнопений. «Русь некрещёная»
клялась на мечах в капище Перуна, где дым от жертвенных костров застилал глаза,
а жрецы взывали к грозному богу-громовержцу.
Знаменательно, что в документе
христиане упомянуты первыми — это не случайность, а признание их растущего
влияния. Очевидно, в Киеве уже тогда у власти стояли люди, чьи сердца
склонялись к свету Евангелия. Возможно, и сам князь Игорь втайне тяготел к христианству,
но его положение не позволяло открыто принять крещение, не решив вопроса о
судьбе всей Руси.
Тень язычества
Однако к моменту прибытия
византийских послов обстановка в Киеве накалилась. Языческая партия,
возглавляемая варяжскими воеводами Свенельдом и его сыном Мстиславом, набирала
силу. Не менее влиятельны были и хазарские иудеи, для которых торжество
православия означало бы крах их власти над умами.
Игорь, не сумев переступить через
груз традиций, остался верен старой вере. Он скрепил договор по языческому
обряду — клятвой на мечах, отвергнув благодать крещения. И был наказан за
малодушие: уже через год древляне, восстав против его власти, предали его
мучительной смерти.
Но дни язычества были сочтены.
Бремя правления приняла на себя вдова Игоря — княгиня Ольга, ставшая для Руси
тем же, чем была святая Елена для Византии: матерью, строительницей и
просветительницей.
Путь к крещению
Имя Ольги
(древнескандинавское Хельга — «святая») словно предопределило
её судьбу. Народ прозвал её Мудрой не только за государственную мудрость, но и
за духовную прозорливость.
Летом 954 года, оставив Киев под
присмотром юного Святослава, Ольга отправилась в Царьград — не как
просительница, а как правительница могучей державы. Византия встретила её с
царскими почестями: бронзовые львы рычали, механические птицы пели в палатах Магнавры,
а император Константин Багрянородный, хоть и недолюбливавший русов, вынужден
был признать её величие.
Но главное чудо ждало её в храме
Святой Софии. Под сводами, куда лился золотой свет сквозь мозаики, её сердце
окончательно обратилось ко Христу. В таинстве крещения она приняла имя Елена —
в честь матери Константина Великого, обретшей Крест Господень.
Возвращение на Русь
Ольга вернулась в Киев с
драгоценными дарами — частицами святых мощей, богослужебными книгами и крестом,
вырезанным из Животворящего Древа. На нём была надпись: «Обновися
Русская земля Святым Крестом, его же прияла Ольга, благоверная княгиня».
Она строила храмы: Святой Софии в
Киеве, Святой Троицы во Пскове, Никольскую церковь над могилой Аскольда. Её
погосты стали не только административными центрами, но и очагами христианской
веры.
Но её мечте о крещении всей Руси
не суждено было сбыться при жизни. Сын Святослав, яростный язычник, отвергал её
проповедь. Даже попытка призвать западных миссионеров окончилась неудачей.
Закат и наследие
Последние годы Ольга провела в
молитве, словно предчувствуя, что семя, брошенное ею, взойдёт лишь после её
смерти. Она отошла ко Господу 11 июля 969 года, завещав похоронить себя по
христианскому обряду.
И когда её внук, Владимир,
крестил Русь, он вспомнил её слова: «Воля Божия да будет! Аще восхощет
Бог помиловати роду моего Земли Руския, да возложит на сердце им обратитися к
Богу».
Её мощи, чудесно сохранившиеся
нетленными, стали зримым свидетельством святости. А её имя — символом мудрости,
веры и несокрушимой силы духа, осветившей путь целого народа.
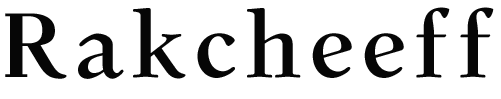
-600x800.JPG)